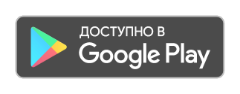Новости – Люди












Люди
«Потому что, в общем, вот»

Владимир Щербаков. Фото: Аркадий Бабченко
Судмедэксперт Владимир Щербаков рассказал журналисту Аркадию Бабченко о том, как в России идентифицируют неизвестных солдат
15 мая, 2013 08:26
12 мин
Военный репортер, основатель проекта «Журналистика без посредников» Аркадий Бабченко поговорил с бывшим главой 124-й Ростовской военной судебно-медицинской лаборатории Владимиром Щербаковым, который руководил идентификацией всех неизвестных солдат Первой и Второй чеченской войн.
Помещение частной судебно-медицинской лаборатории ООО «124 Lab» – предбанник с секретаршей и такой же крохотный кабинет. В нем анатомический манекен, простая мебель, шкаф, компьютер, чайник – все друг на друге – и длинный ряд дипломов, грамот и благодарностей на стене.
Создал ООО «124 Lab» легендарный Владимир Щербаков – бывший руководитель бывшей 124-й Ростовской военной судебно-медицинской лаборатории, через которую прошли останки всех неизвестных солдат Первой и Второй чеченской кампании.
Сгоревших в танках, подорванных на фугасах, обглоданных собаками в Грозном, свезенных в пластиковых мешках с блок-постов.
Почти все они были опознаны – Щербаков создал с нуля уникальную систему идентификации погибших, структурировал весь накопленный лабораторией опыт, построил концепцию единой информационной базы данных военнослужащих.
Затем он был уволен, а его лабораторию расформировали.
Сейчас он снимает у Центральной городской больницы Ростова-на-Дону две комнатушки. На задворках снимает. В бараке пищевого блока.
Другого места ему не нашлось. Занимается Щербаков тем же, чем и раньше. Только теперь – на частной основе. Государству его работа и его знания не нужны.
- Владимир Владимирович, насколько я помню, вы служили на флоте. Как вы попали в судебную медицину?
- Я офицер медицинской службы. Окончил Военно-медицинскую академию, где занимался патологической анатомией. Затем два года служил на Тихоокеанском флоте на миноносцах. А когда открылась вакансия эксперта-криминалиста, ушел из плавсостава. В 1992 году перевелся в Ростов. Начальником 124-й лаборатории стал в 1995-м, уже во время войны. Так и началась моя карьера. На сегодняшний день мой стаж экспертной деятельности составляет 33 года.
- То есть вы уже были опытным экспертом. А лаборатория вошла в войну подготовленной?
- Нет. Все разрабатывалось на коленке. Была поставлена задача идентифицировать, и делай, что хочешь. Просто был всплеск сверхответсвенности. У нас же тут толпы матерей пропавших солдат были. Хочешь не хочешь, приходилось делать. Потом, политическая составляющая -- это же все вызывало негатив в массовом сознании. Надо было его гасить. Но можно гасить тупо - взять и зарыть, а можно по-человечески решить эту задачу, отдать матерям их мальчиков.
- Сколько через вашу лабораторию прошло погибших?
- За обе кампании – около четырех тысяч. По первой войне – по состоянию на 2003 год, когда меня уволили, – мы идентифицировали 94% погибших. По второй – 99%. Мы работали. Разрабатывали новые методы идентификации, среди них дерматоглифика признаков кровного родства по строению гребешковой кожи (установление родства по сходству отпечатков пальцев. – РП). На основе этого метода создана компьютерная программа. Идентификация по особенностям строения реберного каркаса на основе сравнения прижизненных флюорограмм и посмертных рентгеновских снимков – тоже наше ноу-хау. Это работа Андрея Ковалева была, на ее основе получилась докторская, а Андрей Ковалев возглавляет сейчас Российский центр судебно-медицинской экспертизы (РЦСМЭ). Мы усовершенствовали сравнение совмещения прижизненных фотографий и черепов. В совокупности – получили такой высокий результат.

Помещение, которое "124 Lab" снимает у Центральной городской больницы Ростова-на-Дону. Фото: Аркадий Бабченко
Помещение, которое "124 Lab" снимает у Центральной городской больницы Ростова-на-Дону. Фото: Аркадий Бабченко
- Как все это выглядело? Вот привозят вам две обгоревшие ноги в кирзовых сапогах…
- Привозят тело. Оно исследуется – какую идентификационно-значимую информацию оно на себе несет. Начиная с ориентирующих признаков – одежда, шеврон, имеются ли на шевроне самодельные надписи, маркировка одежды, номер военного билета… По ним можно выйти на конкретного человека. Хотя и не факт: одеждой могли поменяться. Личные вещи тоже важны. Письма. Это и почерковый материал, и установочный, потому что адреса там указывались. Это все педантично учитывалось, фотографировалось, снималось на видео. После снятия одежды переходили к исследованию тела.
Фактор времени тоже имеет огромное значение для опознания. Фиксировали все признаки внешности, в обязательном порядке – фото- и видеосъемка в пяти ракурсах, детально. Особые приметы – татуировки, рубчики, родинки…
- А информационную базу откуда брали? Ну, есть у парня татуировка – и что дальше?
- Из уст субъектов опознания. Это родители, сослуживцы. А текстуальные данные – ну, например, антропометрию, данные медицинских обследований – присылали военкоматы. Антемортальная – то есть прижизненная – база данных заполнялась с использованием вот таких источников информации. Самыми ценными субъектами опознания являлись, как вы думаете, кто?
- Сослуживцы?
Да и память у матерей не такая цепкая.
- У меня мама перед отправкой в Чечню фаланги пальцев на ногах линейкой мерила.
- Правильно делала. Пальцы на ногах сохраняются чаще, чем на руках.
- Я помню, вы бились, чтобы создать в Минобороны общую антемортальную базу данных военнослужащих именно для опознания. Удалось?
- Не удалось. Тогда не было законодательной базы. Даже написанный проект закона об идентификации и регистрации – ну, он дошел до первого чтения. После завернули. Зачем нам своих погибших солдат идентифицировать, правда? Ограничились законом о дактилоскопической регистрации, с подтекстом: потом напишем еще закон о геномной регистрации, и в этом правовом поле будем действовать. Вот до сих пор и действуют. О геномной регистрации закон в итоге приняли. Но он, во-первых, затрагивает только осужденных за тяжкие преступления, а во-вторых – все равно мертвый. В военкоматах проводится только дактилоскопия пальцев рук.
- Вы сказали, что пальцы ног сохраняются лучше...
- …особенно если человек гибнет в горящей бронетехнике. Ноги, обутые в кирзовые сапоги, не так сильно сгорают, сохраняют папиллярный узор. И можно, не прибегая к дорогим методам, только на основании этой дактилоскопической информации идентифицировать человека.
Но тут важнее другой аспект – правозащитный. По закону дактилоскопическая информация пальцев рук должна храниться до достижения человеком восьмидесятилетнего возраста. Законопослушный мужской контингент проходит через этот фильтр снятия отпечатков, служит два года и после этого остается в базе данных на всю жизнь. То есть, во-первых, государство всех граждан мужского пола автоматом записывает в потенциальные правонарушители. Это ненормально. В Штатах, например, данные хранятся ровно столько, сколько человек служит – после увольнения он вправе затребовать свой профайл и уничтожить его. Это нормальный порядок взаимоотношения государства со своим гражданином.
Но, во-вторых, что еще важнее, тем более, в нашей стране… Да, он законопослушный, он не совершает преступлений и до восьмидесяти лет не совершит, – но его в мгновение ока могут подставить. Тут надо просто уточнить: вся эта база данных хранится где? В нашем самом законопослушном ведомстве – МВД. Сейчас дня не проходит без новостей о преступлениях сотрудников полиции.
Тут уж человек может быть спокоен. Но этого не делается. Берутся по-прежнему отпечатки пальцев. Которые, к тому же, часто обгорают.
- Почему?
- Знаете, в армии есть такой ответ: «Потому что, в общем, вот». Вот, потому что, в общем, вот.
- А зубы? Стоматологическая база данных есть?
- Прижизненной нет. Прижизненная не создается. Сейчас солдаты проходят только дактилоскопию пальцев рук. Больше ничего.
- Скажите, с вашей точки зрения, как эта система должна выглядеть в идеале?
- Вот смотрите. Антемортальная информация должна иметь три уровня. Первый – признаки внешности, особые приметы, антропометрические и дентальные данные, то есть зубы. Второй – полная дактилоскопическая информация: пальцы рук, ног, ладони, подошвы. Третий уровень – материальные носители ДНК человека, то есть кровь.
Первый уровень применим к погибшим, пригодным для визуального опознания. Если погибший проходит по этому уровню, идентификация занимает считанные минуты. Чечня показала: первая война – для визуального опознания были пригодны 60% неопознанных погибших, вторая война – 80%. В первой больше горели в бронетехнике. То есть на одном только этом первом уровне мы за минуты можем идентифицировать 80% погибших. Этого не делается.
Второй уровень. Сейчас покажу… Вот фотография. Рука и часть грудной клетки. Это летчик погибший. Кроме руки – ничего. Но сохранилась гребешковая кожа пальцев рук (отпечатки пальцев – РП). Можно установить личность по дактилоскопической информации. Опять же, Чечня показала: по первой – сохранность пальцев рук у 27%, по второй – 57%. Также можно опознать за минуты.
И третий уровень – это костные останки, обугленные тела, тела в состоянии глубокой гнилостной трансформации. Первая Чечня – 11%, вторая – 4%. То есть нуждаемость в третьем уровне по второй Чечне - всего 4%. Объясняется это тем, что во второй Чечне была иная структура боевой травмы: по-другому стали воевать, технику уже так бездумно не жгли – одно пулевое ранение, остальное сохранно. Скажите: зачем использовать дорогостоящую молекулярную генетику, если идентификация вполне осуществима дешевыми методами – просто необходима антемортальная база данных? Из этого сейчас делается только частично второй уровень. Только пальцы рук. Все.
- Эта трехуровневая концепция разработана в вашей лаборатории?
- Да. Я ее сам разработал. Она детальная, здесь все прописано. Можно брать и работать.
- И почему ее не приняли?
- Министерство обороны сочло это нецелесообразным. Объяснение все то же – потому что, в общем, вот.
- Насколько я понимаю, в процессе вашей работы была создана и база данных?
- Да.
- И что с ней?
- Не знаю. Где-то хранится, наверное. У меня нет информации.
- 124-я лаборатория – это же было делом вашей жизни?
- Получилось, что так. Морально я еще там. Я еще там.
- Как вы не спились?
- Храм. Храм.
- Синдрома пост-комбатанта не было?
- Нет. Поставлена военная задача, задачу надо решать. Были у нас ребята, которые, конечно, подсели на алкоголь. Не мои сотрудники, прикомандированные.
- Вас уволили в 2003-м. Официально – по достижении пенсионного возраста. Но у меня ощущение – потому что слишком много говорили. На их языке это называется «несанкционированная выдача информации СМИ».
- А руководство этого и не скрывало. «Ты слишком активен, друг» – это мне прямо говорилось.
- Что стало с лабораторией после вашего увольнения?
- Она претерпела ряд оргштатных преобразований. Сначала образовали 16-й центр (16 Государственный центр судебно-медицинских и криминалистических экспертиз СКВО – РП.), а сейчас они стали филиалом 111-го центра Минобороны. Теперь это все это подчиняется непосредственно Москве. Самой 124-й лаборатории как таковой больше не существует. Зачем это было сделано? А потому что, в общем, вот. Из прежнего состава остался только один человек. Остальные одиннадцать по разным городам и весям – кто-то уволился, кто-то продолжил служить.
- Опыт лаборатории утерян?
- Да.
- А те тела, которые так и не удалось опознать и которые потом были захоронены на Богородском кладбище в Подмосковье? Мне Виталий Бенчарский, член рабочей группы Комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, в которой вы работали тоже, рассказывал, что там нужна была какая-то незначительная сумма, чтобы опознать всех.
- Изначально финансирование было смехотворным, да. Не знаю, за счет чего работали. Затем, когда назрела необходимость и возможность оснаститься абсолютно всем, что используется в мировой практике для проведения идентификаций, в общей сложности где-то на три с половиной миллиона долларов оборудование было закуплено. Это не так много. У американцев бюджет военного института патологии – пять миллионов в месяц.

Богородское кладбище в деревне Тимохово Ногинского района - место захоронения погибших в Первой и Второй чеченской кампаниях, останки которых так и не удалось опознать. Фото: Аркадий Бабченко
Богородское кладбище в деревне Тимохово Ногинского района - место захоронения погибших в Первой и Второй чеченской кампаниях, останки которых так и не удалось опознать. Фото: Аркадий Бабченко
- Вы упомянули, что о политической составляющей в вашей работе. Когда давление было больше – в первую войну или во вторую?
- Оно было и в первую, и во вторую. Просто во вторую стала происходить трансформация понимания целей нашей работы, причем на самом верху. Это все оттуда пошло, с самого верха. Власти просто надоело само звучание этой темы в СМИ.
Поэтому предлагалась модель – да, надо захоронить, но когда со всего массива погибших будет взята вся информация. С каждого. Вот что вынашивалось.
А тут вторая война, и пошел новый поток. Причем в этом потоке преобладали те, кто пригоден для визуального опознания. «А что вы с ними возитесь? А зачем?» Как зачем, ребят? Это наши солдаты или нет?
В первую войну было допущено семь ошибок субъектами опознания. Потом пришлось проводить эксгумацию. Мы эти ошибки установили задним числом только благодаря тому, что все было зафиксировано на видео, и у всех была взята идентификационно-значимая информация.
Ну вот, он пришел с каким-то актом опознания. А сослуживец его или пьяный был, или взял и подмахнул просто, чтобы ужас этот забыть уже поскорее – и вы считаете, что человек опознан?
Это следственные действия.
Смотрите, как здорово поступили хорваты. Они по окончании войны на национальном кладбище Загреба построили мемориал. Что он собой представляет? Пантеон – это только видимая часть. А под ним бункер, где в контейнерах сохраняются тела. Любого можно брать, и при новой информации с ним работать дальше. С одной стороны, они всех разместили на кладбище, с другой стороны, ни одного не бросили и не закопали. Как только идентификация будет закончена, можно хоронить. Вот это пример того, как нужно работать с павшими.
- Это естественно. Хорваты считают, что они вели справедливую войну – я не говорю сейчас, так это или не так на самом деле. Наше же правительство знает, на мой взгляд, что оно вело войну преступную. Поэтому там – помнить, здесь – зарыть и забыть. Ладно. Вас уволили из армии. Что потом? Как вы жили дальше?
- Дальше пять лет был депутатом законодательного собрания. По одномандатному округу, самовыдвиженец. Победил с результатом 56%, занимался социальной политикой. Потом… Надо ж как-то трудоустраиваться. Что творилось в областном бюро судмедэкспертизы, я знал. В прессе была масса публикаций. Это была ОПГ, натуральная организованная преступная группировка. Идти назад в свою контору рядовым экспертом? Своими глазами каждый день наблюдать, как созданная тобой система валится и рушится. Поэтому, учитывая, что законом предусмотрена возможность негосударственной экспертной деятельности, я взял и учредил ООО «124 Lab» Нас четыре человека – я, бухгалтер, секретарь и эксперт-почерковед. Если вопрос выходит за рамки моей компетенции – фармакология, акушерство и гинекология, неврология – привлекаю соответствующих экспертов. Таким вот образом и работаем.
- Кто ваши клиенты?
- В основном адвокатура, конечно. Но и прокуратура, и суды, и МВД, и Следственный комитет тоже обращаются. Хотя и немного, в общей массе – процентов пять. Недостатка в работе я не испытываю. Загружен полностью. Ни выходных, ни проходных. Анализ экспертных заключений, формулирование альтернативных версий. Бывает, выезжаю на эксгумацию.
- Вы сказали об альтернативных версиях. Насколько я понимаю, ваша экспертиза опровергает результаты официальной, государственной? Как часто суды принимают ваши доводы?
- Ну, скажем так: за прошлый год с моего посыла суд в девяти случаях пришел к необходимости вынесения оправдательного приговора.
Ну и наоборот. Во Владикавказе двоих полицейских осудили за применение пыток с использованием электротока. В Ставрополье резонансный случай с Машей Губаревой, когда была сфальсифицирована экспертиза, по которой она якобы умерла от переохлаждения, а фактически девчонке шею свернули. Убийца объявлен в розыск. Убийство спецназовца Чудакова с семьей на трассе М-4, резонансное дело: там подозревался некий Серенко. Ему вменялось убийство всей семьи. Но при исследовании фотоматериалов были установлены следы наручников на руках Чудакова. Учитывая, что четыре трупа, и убиты все по-разному – один человек этого сделать не мог. А вменялась вина только Серенко. Но два года он все же просидел в СИЗО. Дело до сих пор так и не раскрыто. Сейчас этот Серенко под подпиской о невыезде. То есть работаем, работаем.
- Как вы можете охарактеризовать ситуацию с экспертизой в целом? Что сейчас происходит с профессией?
- Я бы охарактеризовал ситуацию так: вырождение в зачатии. Подавляющее большинство молодых экспертов профессионально доношенными назвать нельзя. Это я вам как эксперт с тридцатилетним стажем говорю. Это жутко. Это просто страшно. В целом, примерно в 70% случаев экспертиза устойчива. Она не без греха, но она на уровне троечки с плюсом: более или менее соответствует нормативно-правовым актам, написана правильно. Нельзя сказать, что это черная продукция – она серая. Но вот остальные 30%…
Классика – Ставропольское судебно-медицинское бюро. По моему мнению, его руководство лет пятнадцать на свободе в долг ходит. Они по-иному не умеют уже. Я давал экспертное заключение в рамках уголовного дела по факту издевательств над Вячеславом Мерехой. Его мать сама вызвала полицию – он пил.
Что пишет ставропольский эксперт? «Нет, там не было введения швабры. Это был удар в живот. Кишка лопнула в силу гидродинамических свойств». Бред полный! Тупая травма с такой топографией размещения повреждений невозможна – она противоречит всем анатомическим свойствам человека. Без повреждения мочевого пузыря, без повреждения лона, без знаков травмы снаружи – невозможна. Хитрили, лгали, изворачивались. В деле было две альтернативные экспертизы – из ООО «124 Lab» и из Российского Центра судмедэкспертизы Минздрава. Обе однозначны – так не бывает. Так на этого Мереху потом еще и покушение было. Его прооперировали, он ходит с этой фистулой, выведенной из брюшной стенки… Что вы думаете? Его еще ножом пыряют. Ну, жуть. Жуть.
- Что вы скажете по поводу педоистерии в стране? Судя по риторике, на Россию обрушилось педофильское цунами. Каков реальный процент дел о педофилии в вашей работе?
- Ничтожен. Это очередная кампания по поиску врагов. Вот возьмем известный случай с Владимиром Макаровым, осужденным за якобы развратные действия с собственной малолетней дочерью. Дело, на котором прославилась детский психолог Лейла Соколова, которая увидела в кошачьем хвосте что-то свое.
Я давал по нему заключение тоже. У ребенка на одежде обнаружили наложения ПСА-антигена. Простато-специфический антиген. Эксперт трактует это как сперму. С какой радости? ПСА-антиген – это то, что выделяется у мужчин, извините, с мочой. Руки после туалета не помыл, прикоснулся к одежде ребенка – он останется в качестве наложения, он очень маркий. Повторную экспертизу в рамках этого уголовного дела проводил Павел Леонидович Иванов, руководитель отдела молекулярно-генетических экспертиз, заместитель директора Российского центра судебно-медицинской экспертизы Минздрава. Тот самый, который проводил исследование останков царской семьи. В нашей стране выше него только звезды. Он дал заключение: все, что вложено в обвинительное заключение, противоречит науке вообще. Однако следствию, прокуратуре и суду это по барабану. Человек сидит. Вот вам и вся педофилия.
- Подводя итоги: судмедэкспертизы в стране больше не существует?
- Нет, это слишком громко. Но процессы, которые в ней идут… Системный распад, я бы так сказал. Мы вообще живем в жуткое время.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости