Новости – Люди












Люди
«Петр Первый разделил понятия "государь" и "государство"»

Бронзовая скульптура работы Александра Опекушина «Петр I (Здесь будет Петербург)» в Историческом музее. Фото: Зураб Джавахадзе / ИТАР-ТАСС
Книга литературоведческих статей Ильи Сермана через призму развития литературы показывает сходящиеся и расходящиеся исторические пути русского государства и культуры
8 сентября, 2013 07:09
7 мин
Литературоведческие книги, если это не биографии писателей, нечасто становятся заметным событием. У книги статей и воспоминаний Ильи Сермана есть все шансы стать таковым. Проживший долгую жизнь (97 лет), воевавший, сидевший в ГУЛАГе, литературовед Серман всегда шел вразрез с устоявшимися в советской гуманитарной науке оценками. Из-за этого в какой-то момент ему пришлось эмигрировать в Израиль, где он продолжил заниматься исследованиями русской литературы.
Серман рассказывает читателю о влиянии державинских од на поэзию Маяковского, об эволюции восприятия публикой пьес Фонвизина, о противоречивых отношениях Достоевского и проекта «Просвещение» и, конечно же, о противостоянии славянофилов и западников. «Свободные размышления» можно рассматривать не только как своеобразный учебник литературы, но и как путеводитель по истории русской культуры последних трех столетий.
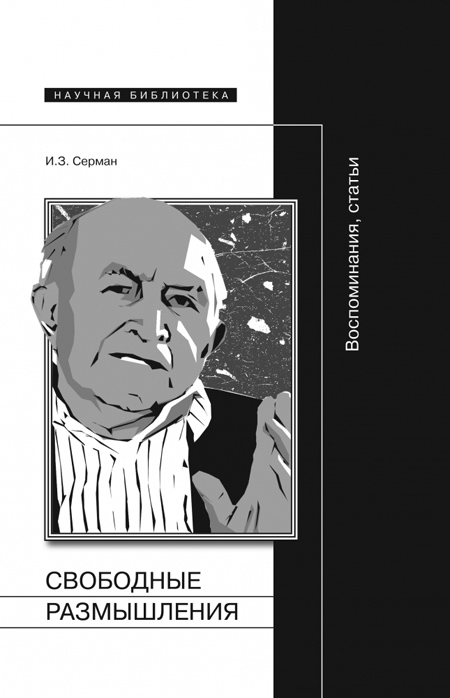
Петр I не был литератором ни по профессии, ни по призванию, он не был пишущим и сочиняющим просвещенным властелином, каким в Германии стал Фридрих II, а в России Екатерина II. Не был Петр и меценатствующим покровителем наук и искусств, каких во множестве знает европейская история и какими уже в некоторой степени были и его отец, и его старший брат. Меньше всего похож Петр на очень им не любимого современника, Людовика XIV, слово которого было последним и окончательным законом художественного вкуса для французского общества 1660—1690-х годов.
Петр формировался как человек и практический деятель в такую эпоху умственного развития Европы, когда уже завершился — в теории, во всяком случае, — поворот от гуманитарной по преимуществу культуры Возрождения к эмпиризму и практическому освоению материального мира.
Роль передового борца за прогресс социальный переходит к опытной науке, опирающейся на математику и ее, как тогда казалось, абсолютную свободу от необходимости поисков конечных причин и целей развития. Искусству начинают отводить подчиненное, второстепенное место в системе человеческих интересов и потребностей. И Лейбниц, и Локк, мыслители, во всем прочем совершенно друг другу чуждые, сходятся в признании бесполезности или, во всяком случае, очень сомнительной полезности искусства и неопределенности его общественной функции. Гильберт и Кун приводят очень характерные для XVII века, для антиэстетической направленности его философской мысли, следующие слова Лейбница: «Я в самом деле рад, что Драйден получил тысячу фунтов за своего Вергилия, но хотел бы, чтобы Галлей мог иметь в четыре раза больше, а Ньютон — в десять раз» — и дают к ним следующий вполне убедительный комментарий: «Иными словами, ценность поэзии по отношению к науке составляет пропорцию примерно 1:7».
Локк, философия которого в целом есть итог рационализма и принципиального эмпиризма философской и научной мысли XVII века, считал, что искусство не может познать истину, ибо оно обращается к чувству, а не к разуму: «Я согласен, что в беседах, от которых мы ждем удовольствия и услады, а не научных знаний и моральных поучений... словесные украшения... вряд ли можно осуждать. И все же если говорить откровенно, то следует признать, что все искусство риторики, кроме вопросов порядка и ясности, вся деланность и вычурность речи, придуманная во имя красноречия, направлены лишь к тому, чтобы внушать людям ложные понятия, разжигать страсти и тем самым создавать неправильное мнение, и что поэтому они действительно ведут к обману».
Как и почему возникает такое противоречие между наукой и искусством, между познанием и художественной фантазией? В XVII веке естествознание впервые в истории человечества становится не запасом случайных сведений и разрозненных наблюдений: «Вместо спорадических частных блестящих догадок, — пишет Ю. Б. Виппер, — и смелых прозрений теперь преобладает последовательное и подчиненное определенной системе накопление знаний в сфере отдельных отраслей науки... Основой научного познания делается эксперимент, его конечной целью — выведение из опытов и установление путем обобщения частных наблюдений объективных и точных закономерностей. Этот качественный скачок был не только естественным шагом вперед в общем поступательном движении научного познания. Он был к тому же неразрывно связан с развитием производительных сил и с выдвижением тех запросов и нужд, которые были обусловлены ростом капиталистических отношений, расцветом мануфактуры, стремительным расширением торговых связей и морских путей».
Полной перестройке подверглась в XVII столетии и политическая мысль Европы. Менялось не столько ее содержание, ее проблематика, сколько методология, которая также стремилась к синтезу общих рационалистических идей и исторической эмпирии.
Сознательная секуляризация русской общественной мысли, ее вхождение в мир политических категорий и понятий, выработанных европейской наукой в течение XVII столетия под влиянием таких всемирно-исторических по своему значению процессов, как победа абсолютизма во Франции и Английская революция, происходили не сразу, потребовали времени и меньше всего походили на школьное усвоение затверженных истин. Каждое новое представление, каждое новое понятие, созданное рационализмом XVII века в области политической науки, воспринималось настороженно, с сопротивлением и порождало различное к себе отношение — в зависимости от реальных интересов, которые должно было данное понятие выразить.
Необходимость строжайшей регламентации политических обязанностей каждого сословия отразилась почти во всех законодательных актах петровского царствования; особое, принципиальное значение в этом смысле имел «Духовный регламент» (1721), написанный Феофаном и отредактированный царем.
В «Духовном регламенте» последовательно проводилась идея строжайшего разделения светской и духовной власти в государстве и полного подчинения церкви государству: «От соборного правления не опасатися отечеству мятежей и смущения, яковые происходят от единого собственного правителя духовного. Ибо простой народ не ведает, како разнствует власть духовная от самодержавной, но великою высочайшего пастыря честию и славою удивляемый, помышляет, что таковый правитель есть то вторый государь, самодержцу равносильный, или и больши его, и что духовный чин есть другое и лучшее государство».
Новизна политической концепции, созданной Петром и его соратниками, заключалась не столько в ее содержании, сколько в самой методике обоснований и доказательств, в логике мысли и, может быть, самое главное, в утверждении этой логики как необходимого условия истинности данной политической идеи.
Ближайшим поводом для демонстрации новой методологии политической мысли оказалось очень важное событие политической борьбы эпохи — суд над царевичем Алексеем и связанное с этим событием установление нового порядка престолонаследия в России.

Картина Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871 год.
Картина Николая Ге «Петр I допрашивает царевича Алексея в Петергофе», 1871 год.
Принцип неограниченной самодержавной власти в связи с политической ситуацией, возникшей из дела Алексея, распространялся отныне и на самый принцип престолонаследия, который совсем недавно тот же Прокопович объявлял одним из самых больших достоинств и преимуществ неограниченного монархического строя по сравнению со всеми другими видами государственного устройства. Наиболее значительное произведение Прокоповича, чисто политический трактат «Правда воли монаршей во определении наследника державы своей» (1722), был посвящен историко-теоретическому обоснованию этого принципа полной свободы выбора наследника. Феофан и в «Правде воли монаршей» пользуется в равной степени историческими, философскими и богословскими, от историй Священного писания, доводами, однако место, которое отводится аргументам нецерковным, гораздо значительнее. С точки зрения автора, они гораздо весомее и убедительнее. Поэтому характерен даже порядок, в котором приводятся доводы разного происхождения: «Узрев бо толикую доводов силу и толикий свидетель облак, от естественного разума, от законов народных, от примеров исторических, еще же и от неложного слова божия, не токмо видит (роптатель. — И. С.), что трудно ему аки против рожна прати, но и устами зенути отнюдь не может».
Как указывает один из видных русских исследователей истории политической мысли Б. Н. Чичерин, «человечество вышло из средневекового, более или менее анархического состояния: оно отрешилось от теократии и феодализма. Надобно было воздвигать новое здание, для которого не годился прежний материал. В этой работе невозможно было идти путем опыта, отправляясь от факта, от существующего, ибо существующим было именно старое, то, что отвергалось как несостоятельное. Оставалось, следовательно, искать в теоретических указаниях разума начал для нового порядка вещей; надобно было исследовать, в чем состоят рациональные основы человеческих обществ и каково должно быть их устройство».
Верно определив предпосылки появления нового метода — изучения теории государства и нового подхода к политической теории вообще, Чичерин исходит при этом из абстрактно взятого политического состояния Европы в новое время, и у него получается так, что с «теократией» и «феодализмом» было совершенно покончено. На самом же деле все обстояло иначе, гораздо сложнее, и учения Гроция и Пуфендорфа в гораздо большей мере являлись программой общественного устройства, чем характеристикой действительного политического состояния Европы середины XVII века. Учение естественного права было по отношению ко многому, и особенно ко всем теократическим идеям, учением революционным, ниспровергающим. Ключевский считал, что самый ход преобразований потребовал от Петра дать им «нравственно-политическое определение». «Петру принадлежит, — писал он, — важная заслуга первой попытки дать своей бесформенной и беспредельной власти нравственно-политическое определение. До него в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с лицом государя, как в частном общежитии домохозяин юридически сливается со своим домом. Петр разделил эти понятия, узаконив присягать раздельно государю и государству. Настойчиво твердя в своих указах о государственном интересе как о высшей и безусловной норме государственного порядка, он даже ставил государя в подчиненное отношение к государству как верховному носителю права и блюстителю общего блага... Самые эти выражения "государственный интерес", "добро общее", "польза всенародная" едва ли не впервые являются в нашем законодательстве при Петре».
Стремление подчинить всю жизнь страны идее надсословного, общенационального государства определило и культурную политику Петра, и его эстетические вкусы в их государственном проявлении.
По-видимому, мы можем согласиться с Ключевским, тонко заметившим, что Петр «несомненно был одарен здоровым чувством изящного... Он обладал сильным эстетическим чутьем; только оно развивалось у Петра несколько односторонне, сообразно с общим направлением его характера и образа жизни».
«Образ жизни» Петра, о котором говорит историк, включает в себя всю разностороннюю государственно-политическую деятельность Петра, в которой искусству была отведена, как правило, второстепенная и всегда подчиненная роль одного из средств пропаганды и разъяснения правительственных мероприятий, своей непомерной тяжестью ложившихся на плечи народа.
В известных ему формах искусства — в театрах, театрализованных зрелищах, фейерверках и иллюминациях, в церковной молитве и проповеди, сатирико-нравоучительной литературе, в историческом повествовании — всюду Петр искал действенных средств убеждения и пропаганды, поощряя то, что казалось ему полезным и действенным.
Искусство во всех видах и проявлениях должно было служить государству, благу нации, res publica.
Серман И. З. Свободные размышления — М.: Новое литературное обозрение, 2013
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости



















