Новости – Люди












Люди
«Основной узел невроза Фрейда — ревность и отвращение»
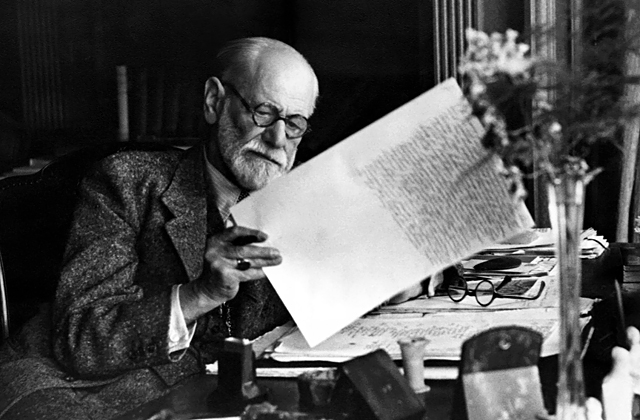
Зигмунд Фрейд. Фото: Interfoto / ИТАР-ТАСС, архив
Книга Ганса Кюнга «Фрейд и будущее религии»
1 июня, 2013 05:28
5 мин
В издательстве московского Библейского-богословского института уже давно издается книжная серия «Богословие и наука», посвященная диалогу между религиозным и научным мировоззрением. Показательно, что в серии публикуются в основном работы западных теологов. Благодаря этому для российского читателя открывается обширное поле для изучения границ дискуссий между европейскими учеными и богословами.
Новая публикация в серии – книга швейцарского богослова Ганса Кюнга «Фрейд и будущее религии» посвящена непростым, но интересным взаимоотношениям между христианством и психоанализом. Автор исследует фигуру Зигмунда Фрейда, постепенно подводя читателя к описанию перемен, произошедших в религиозном сознании после открытия подсознательного. Но книга не сводится, как это видно из названия, к роли Фрейда в истории религиозного мировоззрения. Швейцарскому теологу гораздо интереснее попытаться найти баланс между религией и наукой в мире растущего радикализма по обе стороны мировоззренческих баррикад.
С разрешения издательства ББИ «Русская планета» представляет отрывок из книги, рассказывающий о молодых годах Зигмунда Фрейда.
«Если верить ученику Фрейда Эрнесту Джонсу, составителю монументальной трехтомной биографии Фрейда на более чем 1600 страницах, Фрейд рос “без какой-либо веры в Бога или бессмертие и, кажется, никогда не жалел об этом”. Удивительное обобщение, которое Джонс, склонный велеречиво распространяться о мельчайших деталях из жизни своего героя, конечно, ничем не сможет доказать. Все факты, которые он вынужден приводить из жизни юного Фрейда в связи с темой религии, свидетельствует об обратном: “Несомненно, сам Фрейд хорошо знал все еврейские традиции и праздники”.
Патриархальный отец Зигмунда Якоб Фрейд, воспитанный в ортодоксальной еврейской семье, при всем своем либерально-отстраненном отношении к иудейской традиции, не принял христианства, как это сделал отец Маркса. Будучи 75-летним старцем, он подарил своему сыну к 35-летию Библию с еврейским посвящением: “Мой любимый сын, на седьмом году твоей жизни Дух Всевышнего сошел на тебя и побудил к учению. Ныне Дух Всевышнего обращается к тебе и говорит: «Читай из моей книги; если будешь так поступать, то разверзнутся перед тобой источники познания и разумения». Это книга книг; это колодец, который выкопали мудрецы и из которого черпают воду своей премудрости законодатели. — Читая эту книгу, ты впервые обнаружил образ Всевышнего. Ты охотно слушал Его учение и прикладывал всякое старание, чтобы на крыльях Его духа воспарить к вершинам. Сегодня, в твой 35-й день рождения, я вновь достал эту Библию и выслал ее тебе в доказательство любви твоего старого отца”.
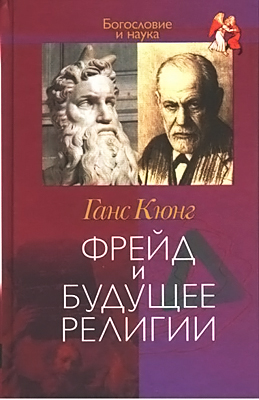
Обложка книги Ганса Кюнга «Фрейд и будущее религии»
Обложка книги Ганса Кюнга
Таким же голословным выглядит утверждение Джонса, что мать Фрейда, которая молилась, чтобы Всевышний благословил его вновь открытую практику, лишь “сохраняла остатки веры в Бога”. Амалия Фрейд была той, кто наставил сына в иудейской вере. Конечно, непросвещенная вера пестрит казусами, и об одном из них вспоминает сам Фрейд: “Когда мне исполнилось шесть лет, и я впервые пришел на урок к своей матери, она преподала мне, что я создан из земли и потому должен буду в нее вернуться. Но мне это не нравилось, и я усомнился в этом учении. Тогда мать растерла свои ладони… и показала мне результат — отшелушившуюся темную кожицу как пример той земли, из которой мы сделаны”.
Впрочем, сам Фрейд признается в том, что на него в юности оказало сильное влияние чтение Библии: “Едва научившись читать, я углубился в изучение библейской истории, и это, как я понял позже, существенно повлияло на направление моих интересов”. Профессор Хаммершлаг, учивший его библейской истории и ивриту, до конца жизни оставался для него одним из самых близких старших друзей и был удостоен “особого отношения, поскольку Фрейд, никогда не скупившийся на критику, не находил в нем ничего достойного порицания”. Современным психоаналитикам вряд ли удастся найти ответ на вопрос, до какой степени ранние детские переживания и достаточно запутанные семейные отношения повлияли на религиозность маленького Зигмунда. Достаточно отметить, что отец Фрейда после смерти своей второй жены и с двумя детьми на руках, перейдя сорокалетний рубеж и уже став дедушкой, женился на молодой еврейке, которой еще не было двадцати и которая спустя год родила Зигмунда, первого из своих восьми детей; так, Фрейд с момента рождения уже был дядей, и его почти полным ровесником и товарищем по играм был сын его сводного брата Эммануил, его племянник, который называл его отца дедушкой. Сорок лет спустя, уже после смерти отца, Фрейд в безжалостном самоанализе определил, что основной узел его невроза — неосознанная ревность и отвращение к отцу, воплощавшему для него одновременно авторитет, несостоятельность и принудиловку, к тому же имевшему страсть к его молодой матери: короче говоря, то, что он называл Эдиповым комплексом! В то же время, в страхе перед появлением младших братьев или сестер, он отказывал себе в каких-либо сексуальных действиях. То значение, которое Фрейд впоследствии будет придавать сексуальности, немало критиков связывают с его ранним опытом “сексуального воздержания”. Так или иначе, отношения с матерью дали ему незыблемую уверенность в себе и внутреннюю стабильность: “…если ты неоспоримый любимец матери, на всю жизнь ты сохранишь то чувство победителя, ту уверенность в успехе, которым нередко сопутствует и сам успех”.
Но достаточно рано и глубоко — как и отвращение к музыке — в памяти Фрейда отложились два рода «антирелигиозных» переживаний: по поводу ритуализма и антисемитизма.
Столкновение с католическим ритуализмом: пожилая, расторопная, но очень строгая няня, бывшая при нем в первые годы жизни, чешская католичка, которая привила малышу католические представления о рае и аде, а возможно, также об искуплении и воскресении, брала его с собой на католическую мессу. Поэтому дома мальчик имитировал литургические жесты, проповедовал и толковал, “как поступает Боженька”. Тогда ли были заложены основы неприязни Фрейда к религиозным церемониям и учениям? Так или иначе, вряд ли случайным мог оказаться тот факт, что первое свое сочинение о религии Фрейд опубликовал в 1907 году под заглавием “Навязчивые действия и религиозные обряды”. В нем он определяет “невроз навязчивых состояний как патологический эквивалент религиозного воспитания”, и в другую сторону: “религия есть универсальный невроз навязчивых состояний”.

Эрнест Брюкке. Фото с сайта psyalpha.net
Эрнест Брюкке. Фото: psyalpha.net
Опыт католического антисемитизма: Фрейд осознавал себя евреем и гордился этим. Но это доставляло ему и страдания, хотя в гимназии он был первым учеником, и ему редко доставалось от сверстников. Его положение аутсайдера в общеобразовательной школе и гимназии было сродни положению Карла Маркса: лишь немногие его друзья не были евреями; ежедневной практикой были разного рода унижения со стороны антисемитски настроенных “христиан”. Лучше бы ему было воспитываться в либеральной Англии, как его племяннику Джону. Отец сильно упал в его глазах, когда ему, двенадцатилетнему, пришлось наблюдать, как отец спокойно принял оскорбление: кто-то сорвал у него с головы новую меховую шапку со словами “жид, прочь с тротуара!”. Подобные ситуации рано пробудили у Фрейда ненависть и жажду мести и дискредитировали в его глазах христианскую веру. В университете было не лучше: “Больше всего меня задевало предположение, что я должен себя ощущать человеком второго сорта и иностранцем в своей стране только потому, что я еврей. Первый из этих пунктов я опроверг со всей решительностью”, — писал 69-летний Фрейд в своем “Автобиографическом исследовании”.
Но этот негативный опыт с религией, как бы он ни дискредитировал христианство, не должен был непременно подорвать основы его, Фрейда, иудейской веры в Бога. Что же к этому привело?
Готовясь в 17-летнем возрасте к поступлению в университет, Фрейд все еще колебался с выбором будущей профессии, но экономические факторы не играли здесь никакой роли. Наконец, он решился вступить на стезю врача, хотя не имел особой склонности к врачебному делу. По собственному признанию более поздних лет, он сделал этот выбор “не из потребности помогать страдающим людям”, а “из потребности хоть что-то понять в загадках этого мира и, может быть, внести свой вклад в их разгадывание”. Итак, решающую роль сыграла жажда познания: “Запись на медицинский факультет представлялась мне наилучшим средством к этому, но затем я попробовал себя — безуспешно — в зоологии и химии, пока, под влиянием Брюкке, величайший авторитет которого подействовал и на меня, я не остановился на физиологии, которая в то время, само собой, почти полностью ограничивалась гистологией”. Здесь Фрейд нашел людей, которых можно было “уважать и брать в пример”.
Так и у Фрейда появился “второй отец”: тем, кем был Фейербах для Гегеля в Берлине, стал Брюкке в Вене для Фрейда. И вот перед нами главные двигатели развития физической, механистической физиологии, исследователи, принадлежавшие к той Гельмгольцевской школе в медицине, которая вышла из маленького клуба юных физиков и физиологов в Берлине 40-х годов. По большей части это были ученики великого физиолога Йоганнеса Мюллера и его близкие друзья, кто предопределил вектор исследований на ближайшие двадцать-тридцать лет, и даже далеко за пределами Германии: Герман Гельмгольц, Эмиль Дюбуа-Реймон, Карл Людвиг и тот самый Эрнст Брюкке, пример дисциплинированного, неподкупного, строгого ученого-естественника. В этом институте Фрейд провел шесть лет своей жизни и лишь нехотя его оставил.
…Фрейд испытывал безграничный трепет перед этой наукой, персонализированной в Брюкке и его ассистентах. Он также «верил» в нее: для него она, в любом случае, означала переход к атеизму, временами даже к радикальному материализму, который высокомерно отвергался такими исследователями, как Дюбуа-Реймон и самим Брюкке. Прямых свидетельств этого перехода Фрейд нам не оставил. Странно, но Фрейд, готовый поделиться с читателем самыми интимными деталями своей жизни, ни слова не говорит об этом повороте к атеизму! Может, он столкнулся с сопротивлением? Если мы хотим вникнуть в критику религии со стороны Фрейда, нам нужно замахнуться на большее и внимательно проследить его путь к психоанализу».
Кюнг Ф. Фрейд и будущее религии – М.: Издательство ББИ, 2013
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости



















