Новости – Люди












Люди
«Кулак» и другие «враги»

Студенты Владимирского рабфака готовятся к агитационному проплыву с лозунгом «За коллективное сельское хозяйство». Фото: РИА Новости
Борясь с кулаками во время коллективизации, советская власть наносила удар по «правому уклону» в деревне и церкви
23 февраля, 2014 07:29
16 мин
Историк Светлана Ушакова написала книгу о советских идеолого-пропагандистских кампаниях начала 1930-х годов. Казалось бы, тема тривиальная, но исследователь нашла к ней новый подход, сосредоточившись на изучении районных газет и агитационных материалов, которые создавались непосредственно на местах. Ушакова использует контент-анализ, выявляющий скрытые уровни пропагандистских кампаний. В результате получился путеводитель по идеям и механизмам массовой негативной мобилизации, приведшим к разгрому деревни и коллективизации.
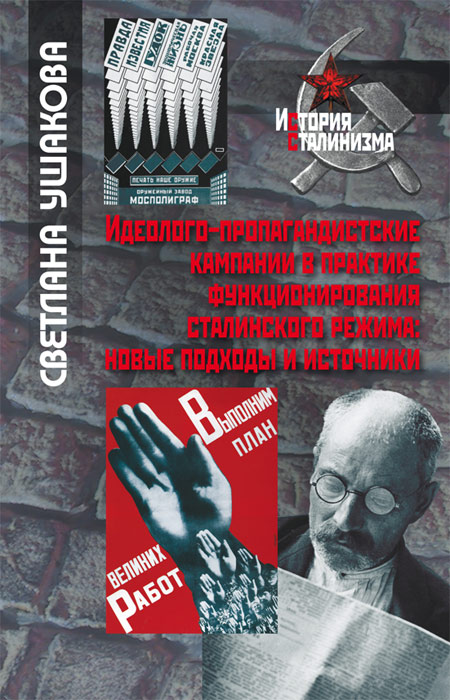
В конце 1929 — начале 1930 года крестьянство не было единственной группой, которая подвергалась давлению и репрессиям со стороны государства. «Правые оппортунисты» и «левые фразеры», церковники, «буржуазная» интеллигенция, нэпманы, «бывшие», мировой империализм — таков неполный перечень «врагов» советской власти в данный период. Их упоминание вместе с «кулаками» в публикациях региональной печати было вызвано двумя причинами. Во-первых, реализация политики раскрестьянивания требовала одновременного наступления на другие относительно независимые общественные группы и институты. Во-вторых, — и в этом проявлялся мобилизационный характер идеолого-пропагандистской кампании — стремление использовать сформированные пропагандой в общественном сознании агрессивные настроения для решения задач, косвенно связанных с главным сюжетом кампании.
...Чаще всего вместе с «кулаком» упоминались «правые», что не удивительно, поскольку сама политика насильственной коллективизации и раскрестьянивания противоречила представлениям так называемой правой оппозиции о путях развития сельского хозяйства страны. Однако употребление термина «правые» на страницах региональной печати было не однозначным. В первую очередь им обозначался «правый уклон», то есть группа партийных лидеров во главе с Н. И. Бухариным, М. П. Томским и А. И. Рыковым и разделявшие их взгляды местные коммунисты, которые настаивали на сохранении принципов нэпа в развитии сельского хозяйства и сбалансированной по темпам и направлениям развития индустриализации.
В таком случае речь в советской прессе, как правило, шла о провале платформы «правой оппозиции»: «Правые оппортунисты позорно провалились: колхозы бурно растут», — под таким красноречивым заголовком в «Советской Сибири» была опубликована передовая статья «Правды». В статье И. В. Сталина «Год великого перелома» излагались доказательства победы «генеральной линии» над «правыми»: крестьяне, в том числе середняки, массово вступают в колхоз, факты крестьянского недовольства связаны лишь с замедленным темпом коллективизации, основной формой объединения на практике стали колхозы, а не кооперативы, нажим на «кулачество» вызвал не перебои с хлебом, а, напротив, перевыполнение плана хлебозаготовок.
...В конце 1929 года, когда в руководстве страны еще продолжалось обсуждение планов коллективизации и ликвидации «кулачества», преобладали газетные материалы, критиковавшие «правых» как оппозиционное течение внутри ВКП(б).

Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище. Фото: Макс Альперт / РИА Новости
Комсомольцы извлекают зерно, спрятанное кулаками на кладбище. Фото: Макс Альперт / РИА Новости
Показатель частоты упоминания «правых» как врагов в контексте «кулацкой» проблемы достиг максимальной величины в двух последних декадах марта, то есть после объявления кампании о борьбе с «допущенными перегибами». Данный показатель превысил даже резко возросшее в этот период количество публикаций, в которых во враждебной деятельности обвинялись те, кто, по официальной версии, был причиной «перегибов» — «левые фразеры» (13,8 и 25,9% при среднем показателе за три месяца 4%). Более снисходительное отношение власти к «левым» проявлялось и в используемой лексике («правая опасность», но «левые загибы»), и в постоянном подчеркивании того, что самым опасным из двух «антипартийных уклонов» остается «правый оппортунизм». Одним из наиболее серьезных и часто предъявляемых обвинений «левым» было указание на то, что их радикализм в осуществлении коллективизации и «раскрестьянивания» является «объективным» пособничеством «правым». Подобное обвинение прозвучало из самых высоких уст: «Не ясно ли, что авторы этих искривлений, мнящие себя „левыми“ на самом деле льют воду на мельницу правого оппортунизма!», — такой вывод сделал И. В. Сталин в своей статье «Головокружение от успехов».
Очевидно, что партийно-государственное руководство опасалось возможного истолкования мартовского «отступления» как доказательства правильности аргументов Н. И. Бухарина и др. Угрожая местным властям обвинениями в причастности к «правому уклону», оно пыталось предупредить неизбежный массовый выход крестьян из колхозов и ослабление репрессий против наиболее активных групп крестьянства. Например, в постановлении Сибкрайкома ВКП(б) от 1 апреля 1930 года предлагалось «еще более усилить борьбу с правооппортунистическими элементами, отражающими кулацкую идеологию и пытающимися тащить партию назад к индивидуальным формам сельского хозяйства, опорочивая генеральную линию партии на сплошную коллективизацию сельского хозяйства, ликвидацию кулачества, как класса и недопуск его (кулачества) в колхозы, как, якобы, ошибочную».
...Как одну из составляющих частей «антикулацкой» идеолого-пропагандистской кампании начала 1930 года следует рассматривать и антирелигиозную пропаганду. Ее активизация была связана как с реальными фактами сопротивления церкви и других религиозных объединений коллективизации и «раскулачиванию», так и с необходимостью подорвать традиционную религиозно-мировоззренческую опору крестьян. В 8% всех «кулацких» публикаций как враждебная сила упоминаются православная религия и церковь, еще в 1,2% публикаций — различные секты, также, по версии пропаганды, выступавшие с враждебных советской власти позиций. Большая часть этих публикаций содержала информацию о методах борьбы с религией. По-видимому, пресса предпочитала особенно не распространяться о значительном влиянии церкви и религии в целом на крестьянство, ограничиваясь общими фразами о сопротивлении «кулаков и попов» коллективизации и советской власти.

Колокола с Киевских церквей доставленные на завод «Знамя труда для переплавки». Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости
Колокола с Киевских церквей доставленные на завод «Знамя труда для переплавки». Фото: А. Варфоломеев / РИА Новости
Документы партийно-государственных органов более откровенно свидетельствуют о реальном авторитете церкви в деревне и о стремлении власти свести его на нет. В постановление ЦК ВКП(б) от 30 января 1930 года «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации» был включен пункт о необходимости «срочно пересмотреть законодательство о религиозных объединениях в духе полного исключения какой бы то ни было возможности превращения руководящих органов этих объединений... В опорные пункты кулачества, лишенчества и вообще антисоветских элементов». Подобное решение было принято бюро Сибкрайкома ВКП (б) 2 февраля 1930 года. В составленных ОГПУ и другими организациями информационных сводках как общесоюзного, так и регионального масштаба приводятся конкретные примеры роли религии в сопротивлении крестьян коллективизации. Согласно докладной записке СПО ОГПУ «О формах и динамике классовой борьбы в деревне в 1930 году» количество выступлений «на религиозной почве» увеличилось с 307 в 1929 году до 1487 в 1930 году. В информационной сводке Сибирского краевого совета Союза воинствующих безбожников (СВБ) от 12 марта 1930 года, направленной в Сибкрайком, рассказывается об усилении агитации «церковников и руководителей сектантов, вместе с кулачеством» в связи с проведением коллективизации. В большинстве случаев, приводимых в сводке, агитация была связана с распространением слухов «об антихристе, о его слугах и печати, которую накладывают колхозникам».
При этом имелась в виду процедура записи и регистрации колхозников, то есть использовался традиционный для православной церкви (еще с попытки золотоордынских властей провести в XIII веке перепись русского населения) метод. В документе отмечены единичные случаи отказа священников от сана и попытки их вступления в коммуну, добровольной сдачи колоколов, которые составители сводки оценивают как один из методов работы «религиозников» в изменившихся условиях. О религиозности крестьян свидетельствуют приведенные в сводке факты: Индерский райком ВКП (б) (Новосибирский округ) отказался принять инструктора по антирелигиозной работе из опасения, что активная работа в этом направлении может сорвать хлебо- и мясозаготовки: «если ты скажешь, что ты безбожник, то тебе ни хлеба, ни мяса не дадут»; а в Бийском округе 50 женщин подали заявление о выходе из коммуны после надругательства комсомольцев села над ризами.
Судя по публикациям «Советской Сибири», основной формой борьбы с религией в данный период было закрытие церквей и снятие колоколов по решению сельских собраний. Реально в большинстве случаев такие решения либо отсутствовали вовсе, либо принимались под нажимом и угрозами, о чем свидетельствуют документы агитпроп-отдела Сибкрайкома ВКП(б). В своей директиве агитпропотделам окружкомов партии от 20 марта 1930 года крайком отмечал как недостаток следующее: «Приступая к организации колхоза, многие работники на местах, прежде всего, пытаются закрывать церкви, без соответствующего развертывания массовой антирелигиозной пропаганды». Однако эти действия местных властей нельзя считать произволом, поскольку решение об издании директивы, упрощающей процедуру закрытия церквей и молитвенных домов, было зафиксировано в постановлении ЦК ВКП(б) «О мероприятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной коллективизации», что, впрочем, не помешало И. В. Сталину в статье «Головокружение от успехов» раскритиковать те местные власти, «которые дело организации артели начинают со снятия колоколов»: «Снять колокола — подумаешь, какая революционность!». В данном случае проявилась обычная практика взаимоотношений центральных и местных властей, с одной стороны, жесткие требования и контрольные цифры, выполнение которых возможно лишь с применением давления и насилия, а с другой — предупреждения о недопущении администрирования и нажима.
Партийные органы старались использовать в антирелигиозной борьбе организованный властью внутрицерковный раскол: в директиве агитпропотдела Сибкрайкома ВКП (б) местным комитетам от 16 января 1930 года отмечалось, что многие местные парторганизации закрывали по преимуществу обновленческие церкви, идя при этом «по линии наименьшего сопротивления, так как церковное обновленчество сейчас переживает тяжелый кризис». Сибкрайком предлагал «...основной удар направить на тихоновское течение, как наиболее крупное и держащее под своим влиянием значительное большинство верующих масс».
Отдельное внимание уделялось борьбе с сектантами. Вероятно, в них власть видела соперника в борьбе за тех, кто по какой-либо причине отошел от православной церкви, а также опасалась усиления их влияния в связи с тем, что многие из них старались оказать личную, в том числе и материальную помощь верующим. Так, в «Советской Сибири» приводились факты того, как «подкулачники-баптисты», оказывая помощь беднякам якобы за счет кресткомов, вовлекали их в свои общины. Сообщения о подобных случаях содержались в информационной сводке Сибкрайсовета Союза воинствующих безбожников.
Ушакова С. Н. Идеолого-пропагандистские кампании в практике функционирования сталинского режима: новые подходы и источники — М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2013.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости



















