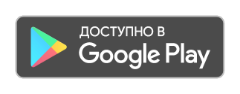1941-й. «Скорая» спешит на вызов

Переводчик Николай Любимов в книге воспоминаний «Неувядаемый цвет» писал, что все лето сорок первого Борис Пастернак неукоснительно дежурил, когда ему полагалось по расписанию, на крыше писательского дома в Лаврушинском переулке, «меж тем как пламенный советский патриот Асеев, откликавшийся в газетах едва ли не на каждую годовщину Красной Армии лефовско-барабанной дробью: Сияй, пунцовая, / Пятиконцовая, / Красноармейская звезда! - мигом выкатился из Москвы, едва лишь загрохотали первые гитлеровские орудия.
Вдогонку он получил двустишие:
Внимая ужасам войны,
Асеев наложил в штаны;
меж тем, как Луговской, Кирсанов и другие поэты, перед войной призывавшие в своих стихах держать порох сухим, нанимали вместо себя дежурить кого-либо из простонародья, а пролетарский писатель коммунист Федор Гладков, игравший роль, как в «Анатэме» Леонида Андреева, «некоего ограждающего» вход в бомбоубежище, властной рукой пытаясь оттолкнуть постороннюю женщину, объявил ей:
«Здесь только для писателей!»; женщина в свою очередь оттолкнула его еще более мощной, рабочей мозолистой рукой и, второпях приняв его за существо одного с нею пола, на что физиономия и прическа Гладкова давали ей некоторые основания, проговорила: «Пошла ты к черту, старая б…ь!» – и благополучно проникла в привилегированное бомбоубежище».
С этими строками перекликается запись в дневнике писателя Аркадия Первенцева, который негодовал, видя коллег-писателей, зараженных трусостью и отчаянием: «Я знал подхалима и враля Нилина, моментально бежавшего в Ташкент после первой серьезной бомбардировки Москвы… Я видел, как бежал Тренев, всегда напитанный советской властью. Я слышал паникера Галицкого, бретера и пьяницу.
Я видел дрожащие губы Базилевского, Чуковского… Я видел бежавших из Москвы жен писателей и писателей, кричавших об опасности, о падении Москвы. Они напомнили мне крыс, бегущих с погибающего корабля. И все люди, которые, бия себя в грудь, кричали о своей солидарности, люди, рвавшие куски побольше и пожирнее, бежали и предали народ».
Время было нелегкое, и многие писатели, потеряв чувство собственного достоинства, беспрестанно что-то клянчили. Они входили в высокие кабинеты, как писал Любимов, «с таким «выраженьем на лице» – лице вышибалы из дешевого публичного дома, – как будто ему неудачно ставят клизму, и чего-то выпрашивали: кто – талончиков на завтрак, кто – талончиков на ужин, кто – «литерной карточки», кто – «абонемент».
Пастернак сочинил эпиграмму «На советского поэта»:
На поэта непохожий,
Ты не Фидий, не Пракситель,
Ты – в прихожей у вельможи
Изолгавшийся проситель.
…В научном архиве Института российской истории Российской Академии наук хранятся записки врача «Скорой помощи» Александра Дрейцера, работавшего в поликлинике Наркомздрава СССР. Они составлены в виде кратких дневниковых заметок по дням дежурств с 3 августа 1941-го по 4 декабря 1943 года. Записки предваряются небольшим вступлением: «Работая выездным врачом на станции «Скорой помощи», выезжая днем и ночью на «несчастные случаи», заглядываешь глубже в жизнь Москвы и москвичей.
С начала войны работники «Скорой» одни из первых оказывали помощь пострадавшим от фашистских бомбежек. Через несколько минут, а иногда секунд, после сигнала об аварии, машина «Скорой» со своим экипажем уже мчалась или медленно пробиралась во мраке ночи с потушенными фарами. Но искусство шофера, которому свет трассирующих пуль или разрывы снарядов освещали на мгновение путь, всегда доставляло нас к месту, где нужна была наша помощь.
Мои мимолетные впечатления о быте Москвы, о людях, их переживаниях, неприкрашенных и обнаженных, на фоне грозного военного времени, пережитого и переживаемого нами, мне казалось интересным сохранить.
Мы в среднем за сутки выезжали 12-14 раз. Ежедневно мы видели много случаев проявления героизма обычных русских людей. Так, красноармейцы и офицеры, как правило, игнорировали ушибы, ранения и шли в свою часть. «Не время сейчас болеть», — говорили они. Рабочие и работницы отказывались от госпитализации и, ограничиваясь перевязкой, порошком или каплями, шли к своим станкам. Редко приходилось слышать жалобы на лишения, ограничения, отсутствие отопления, освещения и прочего.
Русский народ понимает, что такое Отечественная война, и героизм его является естественным.
Как исключения, мы встречали малодушных людей, кончающих жизнь самоубийством, безвольных алкоголиков и даже военных, не понимающих своего долга. На этих «гримасах» Москвы тоже пришлось остановиться.
Исторические события записывал я только в дни своих дежурств, а потому они могли опаздывать на несколько дней в моих записках».
Шла война, но людей, как и в мирное время, одолевали обычные недуги. Кому-то становилось плохо с сердцем, у кого-то случались травмы. Вот одна из записей Дрейцера: «Станция метро «Красные ворота». На мостовой лежит девушка с разбитой головой. Рядом с ней ящик с мороженым. Соскочила на ходу с троллейбуса, ящик перетянул - упала, голову разбила о край тротуара. В карете пришла в себя. Больно. Плачет. Сквозь слезы шепчет: «Все мороженое растает».
Что с ней стало? Дожила ли до конца войны, встретила ли победу эта разносчица сладостей? Бог весть…
«С 9-ти часов ВТ (воздушная тревога – В.Б.), - записал 8 августа Дрейцер. - В одиннадцать вызов в метро «Сокол». Внизу в четыре ряда на полу лежат люди, больше женщины и дети. Лежат они в определенном порядке. Каждая семья имеет свой участок. Стелят газеты, потом одеяла и подушки. Дети спят, а взрослые развлекаются по-разному: пьют чай, даже с вареньем, ходят друг к другу в гости, тихо беседуют, играют в домино. Несколько пар шахматистов, окруженных болельщиками. Многие читают книгу, вяжут, штопают чулки, чинят белье - словом, устроились прочно, надолго. Места постоянные, забронированные. По обе стороны туннеля стоят поезда, где на диванах спят маленькие дети. В медкомнате - роженица. На носилках уносим ее и везем в роддом. В больнице спокойно, деловито переносят рожениц и новорожденных в бомбоубежище. Организованность переноски успокаивающе действует на рожениц. Нет истерик, нет криков».
Дневники врача рисуют реалии той жизни. Оказывается, во время войны пили и пили много. Алкоголь заглушал, хоть и ненадолго тоску и печаль, помогал забыться. К тому же, это привычное и испытанное российское «лекарство»…
Где брали спиртное? Порой оно появлялось в продаже, и за ним выстраивались бесконечные очереди. Водку можно было достать у спекулянтов на рынках. В деревнях гнали самогон и привозили в Москву.
Как и раньше, к «услугам» пьющих были известные медицинские учреждения.
«В Орликовом переулке, в маленьком домике, помещается вытрезвитель, - писал Дрейцер. - На улице темно, но шофер знает точно место, останавливает машину у дверей. С трудом ведем больного, он упирается, ругается, вступает в драку. Дежурные милиционеры и фельдшер, люди опытные, быстро его укрощают: валят на пол, полотенце, смоченное в нашатырном спирте, вкладывается в его шапку и накладывается на лицо. Дикий крик, но он уже наполовину укрощен. Передают его двум здоровенным женщинам-раздевальщицам. Те валят его на диван и раздевают догола в одну минуту…»
Те, кто не могли достать водки и вина, пили всякую дрянь: «2 часа утра. Вызов на дом. Мужчина 37 лет. Пьян. Выпил несколько бутылок «Средство от перхоти и волос». Этикетка Химфармтреста».
Вот другой случай - не трагичный, а экзотичный, с элементами комедии:
«8 часов вечера. Вызывают «Скорую» и милиция, и пожарная команда. Входим в огромную комнату. В середине комнаты стоит рояль. В углу справа — диван, рядом — стол. На столе несколько бутылок, рюмок, закуски, посуда. Никакой мебели больше в комнате нет, даже стульев. На диване лежит совершенно голая женщина лет 20. Это балерина. Она курит папиросу. Лицо и руки у нее в копоти. В комнате человек 30–40 пожарных, милиции и любопытных соседей, уличных зевак.
Подхожу к Т.
Называет свою фамилию, имя, отчество.
- Сколько вам лет?
- Все равно не поверите, пишите 28 или 35.
- Где у вас ожоги?
- Нет ожогов! Мне показалось, что пахнет гарью, и я вызвала пожарных, а там почему-то вызвали вас.
- Почему вы голая?
- Я у себя дома и мне так нравится.
- А где ваша одежда?
- Вам какое дело?
Начальники милиции и пожарной команды задают ей вопрос, но она им не отвечает, а просто отплевывается - «Тьфу…»
Еще одна запись:
«4 часа утра. Только что кончилась ВТ. Выезжаю на окраину города, пострадавшую от бомбежки. Около восьми деревянных домов снесено, еще тлеют бревна, много ям от снарядов в поле. Бездомные сидят на тротуаре на своем убогом скарбе. В бомбоубежищах и нижних этажах обнаруживаем среди трупов шесть тяжелораненых женщин и стариков. Много легкораненых. Размещаем всех по больницам, легкораненых перевязываем на месте, и они с нашими путевками идут пешком в больницу. Мы едем в другой очаг поражения. В трамвайном парке несколько человек пострадало от фаб’а (фугасная авиационная бомба). Так фашисты бомбят «военные объекты».
Записки врача «Скорой помощи» часто – грустны, печальны, иногда страшны. Как, например, эта:
«1 час ночи. Молодая женщина лет 25-ти повесилась на спинке кровати. Муж мобилизован. Двое детей эвакуированы со школой. Двое малышей тут, плачут, теребят мать. Соседи берут детей, а мы увозим мать на вскрытие».
Как же жаль несчастных москвичей - и женщину, покончившую собой, наверняка от безысходности, и сотен тысяч других людей – падающих с ног от непосильного труда – у станка, на строительстве укреплений, недосыпающих, недоедающих! Они заперты в огромном городе, который беспрестанно осыпает смертоносными бомбами жестокий враг. И уже, кажется, слышна тяжелая поступь ног чужих, беспощадных солдат…