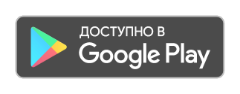Невозвращение Игоря Северянина

Русские в эмиграции задыхались. Дым Отечества до зарубежья не долетал, все вокруг было чужое: воздух, дома, люди. Даже снега и дожди. У Аверченко есть рассказ «По родине». Там русские эмигранты вспоминают Россию – судорожно, с надрывом, до слез.
Один из них даже грабителей, которые когда-то сняли с него пиджак, вспоминал с благоговением: «Чудесные ребята! Я бы с ними сейчас даже пива в Трехгорном выпил. Замечательные были времена… Ей-Богу, доведись так теперь - то я бы сейчас все время под сиренью сидел, и пиджаки им отдавал…»
Очень мучились горемычные писатели ТАМ. И от бедности, но больше, конечно, – от тоски: Цветаева, Бальмонт, Тэффи, Аверченко, Шмелев, Саша Черный… Алексей Толстой в Россию вернулся, Куприн – старый, больной – приполз. Бунин тоже страдал, хотя и старался не подавать вида, ходил гоголем.
…Игорь Северянин, знаменитый русский поэт Серебряного века, эмигрировать не собирался. В январе 1918 года он отвез больную мать, Наталию Степановну, из Петрограда в эстонский рыбацкий поселок Тойла на берегу Финского залива. Думал – поживет несколько месяцев в Эстляндской губернии, переживет неспокойное и голодное время и вернется в Петроград. Но судьба распорядилось так, что в том безлюдном краю, окруженном озерами, ему пришлось доживать почти до самой кончины.
Сначала эта территория, согласно Брестскому миру, была оккупирована Германией. После ухода немецких войск образовалась Эстонская республика, получившая независимость, и между ней и Россией возникла граница.
Северянин ездил в Европу, выступал и кое-какие деньги наскребал. Но его известность, прежде невероятная, угасала. Понятно, тосковал, но русский сплин душил поэта еще не так сильно. Да и надеялся он, что вернется в Россию. Жил в Эстонии уединенно, с эмигрантами особо не знался, Страну Советов не костерил.
В октябре 1924 года Игорь Васильевич отправился на гастроли в Берлин. Захватил с собой жену-эстонку Фелиссу Круут. Если бы не она, быть может, поэт круто бы изменил свою судьбу. Впрочем, обо всем по порядку.
Северянин выступил по случаю пятой годовщины Октябрьской революции со своими стихами в полпредстве СССР, услышал овации соотечественников. Увиделся со своей дочерью Тамарой, родившейся в результате бурного романа стихотворца с Евгенией Гуцан - Златой. И с ней Северянин пообщался. Причем не раз, а многажды. Чувства тлели, а тут готовы были снова вспыхнуть…
В Берлине Игорь Васильевич встретился с Маяковским, своим давним приятелем, а потом неприятелем. Но за границей они крепко обнялись, стали вспоминать минувшие буйные дни. И снова немножко покуролесили: «Мы шатались по берлинским кабакам, / Удивлялись исполинским дуракам, / Пьющим водку из ушата и ведра, / Рвущим глотку, что хоть сжата, да бодра».
Тепло встретили Северянина давние знакомцы - поэты Пастернак, Кусиков, Башкиров, актриса Гзовская, художник Пуни. В ресторане «Медведь» Алексей Толстой хлопнул поэта по плечу и громко продекламировал его строчки времен Первой мировой: «Друзья! Но если в день убийственный / Падет последний исполин, Тогда ваш нежный, ваш единственный, / Я поведу вас на Берлин!»
Смеясь, Толстой вскричал: «Молодец, Северянин! Не обманули! Сдержали слово и привели нас, как обещали, в Берлин. Спасибо вам, наш нежный, наш единственный!..»
Знакомые литераторы помогли пристроить несколько сборников поэта. Гонорар выплатили тут же, чему он был несказанно рад. Наивный Северянин решил, что дела снова пошли на лад, известность возвращается, но она лишь приласкала его слегка и упорхнула…
Игоря Васильевича уже стали склонять к возвращению в Россию, и он стал всерьез об этом задумываться. Приятели вообще говорили ему, что не надо больше валять дурака, а ехать из Берлина прямиком в Москву и забыть про эстонскую глушь.
Однако Фелисса взъерепенилась. Она и раньше мрачнела, опасалась, что Северянин снова примкнет к Злате. Да и к дочери она мужа ревновала. Номер супругов в берлинском отеле чуть ли не каждый день сотрясался от скандалов. Впрочем, Северянин вспоминал о размолвках с женой деликатно. Она, по его словам, говорила: «В Москве вас окружат русские экспансивные женщины и отнимут у меня. Кроме того, меня могут заставить работать, а я желаю быть праздной». Я, сошедшийся с нею всего год назад, каюсь, не хотел ее тогда терять…»
Вероятно, Северянин до последней минуты лелеял надежду сесть в поезд, который умчал бы его в Москву. Однако все же уступил Фелиссе, о чем чуть ли не до самой смерти терзался: «Жаль, что не нашел тогда в себе силы с нею расстаться: этим шагом я обрек себя на то глупое положение, в котором находился все годы, без вины виноватый перед Союзом».
Дверь в Россию захлопнулась. Он обливался слезами: «Я сделал опыт. Он печален: / Чужой останется чужим. / Пора домой; залив зеркален, / Идет весна к дверям моим. / Еще одна весна. Быть может, / Уже последняя. Ну, что ж, / Она постичь душой поможет, / Чем дом покинутый хорош».
Дверь в Россию приоткроется снова через много лет, и Северянин, уже очень больной, задыхающийся от сердечных болей, паковал чемоданы. Казалось, его отъезду ничего уже не помешает, и он, стряхнув тоску, сойдет на вокзале в Москве, пройдет по ее тротуарам, увидит Арбат, Пречистенку, Красную площадь. Услышит звон колоколов, ощутит на своих щеках теплые струи дождя…
Он не думал, что к страна круто переменилась. Не знал этого, не хотел знать…
Мой взор мечтанья оросили:
Вновь - там, за башнями Кремля, -
Неподражаемой России
Незаменимая земля.
В ней и убогое богато,
Полны значенья пустячки:
Княгиня старая с Арбата
Читает Фета сквозь очки...
А вот, к уютной церковушке
Подъехав в щегольском «купе»,
Кокотка оделяет кружки,
Своя в тоскующей толпе...
И ты, вечерняя прогулка
На тройке вдоль Москвы-реки!
Гранатного ли переулка
Радушные особняки...
От прежнего Северянина, с его ананасами в шампанском, рубинами страсти, фиалками нег не осталось и следа. Его стих успокоился, стал крепче. Из строк выветрилась вычурность, гламурность, он стал писать проще, душевнее. Да и сам внешне изменился – стал стеснительным, все больше склонялся к уединению. Редели кудри стихотворца, множились морщины на лице, да и губы нечасто озарялись улыбкой. Часами он сидел на реке с удочкой и рассказывал о своих рыбацких успехах с не меньшей гордостью, чем о поэтических.
…В 1940 году Красная армия вошла в Прибалтику, и Родина сама пришла к Северянину. Россия была для него как любимая женщина – вожделенная и манящая. На родине он не был больше двух десятилетий, она стала совсем другой, грозной, таинственной, но поэт был готов принять ее в новом обличье – гулкой, краснознаменной. Он не знал коммунистических вождей, не был знаком с их идеалами, но согласен был исторгнуть возглас восхищения перед увиденным:
Взвивается красное знамя
Душою свободных времен.
Ведь все, во что верилось нами,
Свершилось, как сбывшийся сон…
Наш дух навсегда овесенен.
Мы верим в любви торжество.
Бессмертный да здравствует Ленин
И Сталин – преемник его!
Именно к советскому вождю посоветовал обратиться Северянину влиятельный поэт Георгий Шенгели. Тот рекомендовал «выступить с большим программным стихотворением, которое прозвучало бы как политическая декларация. Это не должна быть «агитка», – это должно быть поэтическим самооглядом и взглядом вперед человека, прошедшего большую творческую дорогу и воссоединившегося с родиной, и родиной преображенной…»
Шенгели добавлял: «Иосиф Виссарионович поистине великий человек, с широчайшим взглядом на вещи, с исключительной простотой и отзывчивостью. И Ваш голос не произойдет не замеченным, – я в этом уверен. И тогда все пойдет иначе…»
Северянин внял совету – письмо написал, но отправил ли? Это неизвестно. Но то, что собирался получить советский паспорт, точно. Он получил незримое благословение, возможно, из самого Кремля. Его стихи начали публиковать, он воодушевился. Но тут в Советский Союз вторгся Гитлер…
Поэт хлопотал, суетился, чтобы его эвакуировали из Эстонии. И вроде бы собирались, но – не успели. Или как-то не сложилось… В общем, Северянин оказался песчинкой в бурном людском море.
Последнее время он жил со своей последней женой Верой Борисовной Коренди в Усть-Нарве.
Стреляли, бомбили город почти ежедневно. И наступил день, когда под окнами их дома загорланили чужие солдаты, загрохотали грузовики, запылили танки с крестами на бортах.
«Совершенно случайно я познакомилась с одним доктором - немецким офицером, - вспоминала Вера Борисовна. - И вот он, единственный человек, который помогал. Он сказал: «Я тоже поэт, и я ненавижу фашистов«. Он не назвал своего имени, но он три раза в день носил нам еду. Потом достал нам разрешение на выезд в Таллинн... Достал машину и отправил нас в Таллинн. Мы три дня ехали до Таллинна. Жив ли он - я не знаю. Очень добрый человек. Сказал, что у Игоря Васильевича тяжелая форма туберкулеза».
Поэт умер в декабре 1941 года - его убила тяжелая болезнь. Впрочем, не только – оказали губительное влияние на измученный организм и отчаянная ностальгия, и жизнь без надежд. Не было вестей с родины – неведомо было, одолевает германский супостат Россию или разбит у стен Москвы. А ведь свершилось последнее! Если бы Игорь Васильевич узнал об этом, может, взбодрился, поднялся бы на ноги. Но – не суждено…
Большому русскому поэту Игорю Васильевичу Северянину было всего 54 года.