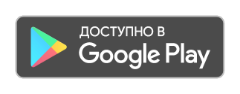Новости – Люди












Люди
Как нас кулачили

Елизавета Умрихина (в центре). Фото: Лариса Бахмацкая
106-летняя Елизавета Умрихина из Ставрополя рассказала РП о своей жизни
13 ноября, 2014 14:56
12 мин
В этом году Елизавете Умрихиной, проживающей в селе Донском Труновского района Ставропольского края, исполняется 107 лет. Женщина воспитала четырех дочерей, пятерых внуков, одиннадцать правнуков и десять праправнуков. Обо всех своих близких Елизавета Алексеевна помнит. Иногда она сочиняет стихи, хотя не училась в школе.
Еду к долгожительнице на такси, общественного транспорта в Донском практически нет. Те, у кого нет машины, используют велосипеды или такси. Такса по селу одна — 70 рублей за любую поездку. Приезжаем, захожу в небольшой аккуратный дом, где меня уже ждут несколько женщин. Они начинают суетиться, крича «мама, вставай, журналист приехал, гости приехали». Я убеждаю, что вставать не надо, захожу и вижу худенькую старушку, лежащую на кровати. Она медленно встает, как бы ощупывая мир.
– Мама ослепла, но хорошо ориентируется, только надо говорить погромче, — объясняет одна из женщин, расставляя вокруг кровати стулья и табуретки. — Можете не разуваться, мы ковер не стелем, чтобы мама не спотыкалась.
Я все же разуваюсь, меня сажают на ближний к долгожительнице стул. Она нежно и очень аккуратно берет меня за руку и начинает гладить, проводя пальцами по моим ногтям.
– Мы все ее дети, — женщины улыбаются, — и внучка ухаживает, без нее бы не справились. Младшая Рая, средняя Галина, Маруся 1933 года рождения. А старшая, Нинка, умерла год как, но мы маме не говорим, — переходят на шепот сестры, — зачем расстраивать, объясняем, что болеет, не может навещать. И внучка Люба за ней ухаживает.
– А что я буду рассказывать? — растерялась Елизавета Алексеевна. — Я уже все позабыла, такая длинная у меня жизнь. Я всегда работала, никогда не отдыхала. В колхозе кем только ни была: и конюхом, и на верблюдах горючее возила, и дояркой, и с быками, и на коровах ездила. По-мужски работала.
– На верблюде?
– Да. А вы что, никогда верблюдов не видели?
– Только в зоопарке, — растерянно улыбаюсь я.
– Возили на них тяжелые грузы. Приеду на обед, а верблюд ляжет и потом не хочет вставать, плюется, не можем поднять. Муж мой после войны попал в плен, а потом — в лагерь, дома его много лет не было, всю мужицкую работу делала.
Дочки начинают мне рассказывать, перебивая друг друга, о папе. Одна из них машет другим, мол, сама расскажу.
– Забрали его на войну отсюда, из Труновки, — разглаживает полы платья Галина. — До Дону они дошли, а даже оружия не было. Стали переплавляться на плотах, а немец их стал бомбить. Папа говорил, что не вода текла по Дону, а кровь, вода была красная. А тех, кто остался на берегу забрали в плен, и отправили в концлагерь. Но он из плена убег с соседом нашим и ходил по Западной Украине. Дядька Колька спрятался, его женщина какая-то спасла, а папу кто-то сдал, и его обратно в лагерь. Били жутко его. И был он там, пока наши не пришли и не освободили. Нам пришло от него письмо, что едет домой. Мы его ждем, а его нет. Как-то попал он в вагон с власовцами, и в Магадан отправили, там он мучился еще десять лет, вернулся только в 1955 году. Жил в поселении, отмечался ежедневно, не мог уехать.
– Мань, ты лучше расскажи, как я на верблюдах работала, — по-детски капризно просит Умрихина.
– Мам, да ты ж рассказала, теперь про папку говорим.
– Может, я что не так сказала? Может некрасиво или непонятно?
Я успокаиваю Елизавету Алексеевну, говоря, что все понятно. Она не отпускает мою руку, мягко, но требовательно держит, продолжая гладить.
– Папа нам помогал, деньги присылал, — рассказывает Маруся, — Я уже замужем была. Причем пришли деньги сначала без письма, и мама не могла понять, что это за деньги и от кого получили, не ошибочно ли пришли.
– А я дояркой с 14 лет работаю, — продолжает Раиса, — у старшей сестры сын был, как жуки вертелись. И огороды копали, сажали, матренку с горы носили.
– Что носили?
– Матренку, топить нечем было. Это такой колючий кустарник. Набирали на зиму целый сарай. Его ветром в овраги сдувало, мы там и набирали… А еще нас со школы возили колоски собирать.
– А помните момент, когда отец вернулся?
– Конечно, мы ж взрослые были. Все на работе были. Я помню, что работала на комбайне в степи, прибежали ко мне двое детишек: «Райке, Райке, там отец обозвался, говорят приехал». А наша бригада за горой работала. Я вбежала на пригорок, и вижу, что много-много людей у нас во дворе, не рассказать. Бегом домой, зашла, вижу мужчину, сидит ногу за ногу, зачесанный назад, чужой. Мне год был, когда он на войну ушел, не могу узнать, но поняла, что папа. Он взял меня на руки, а я глядь, а сестра старшая Нинка лежит за сараем. Она так кричала от счастья, что в обморок упала. Но папа больной пришел, и прожил недолго, он 1907 года рождения.
– Папа с характером большим был, — тихо улыбается Галина. — Помню, я с первым мужем разошлась, четыре месяца пожили и разбежались, мне 17 лет было. И пошли на танцы с Райкой, но чтобы в полночь были дома, такой наказ был. Вернулись, а радио уже молчит, дверь закрыта. Мы стучали-стучали, мама открыла, вынесла нам фуфайки и говорит: «Дед сказал не пускать, а если пущу, то и мне достанется». Мы на ферме тогда доярками работали, прикорнули у подвала, а в два часа ночи уже пошли на первую дойку. Всегда проверял, с кем мы разговариваем, с кем общаемся.
– Голода сколько мы перенесли, — говорит Елизавета Алексеевна, не отпуская мою руку. — В двадцатых годах голодали, в тридцатых голодали, после войны есть было нечего. Зато меня папа и мама любили, даже в школу не пускали, я так и осталась неграмотной. Папа меня жалел, не разрешал меня ругать никому: ни матери, ни учителям, вот дома и оставили, без школы. Председатель, помню, ездил на тачанке, и меня катал всегда. Все в селе любили.
– Мам, расскажи, как вас кулачили.
– Да, раскулачивали. У нас был и амбар, и земли своей много. Все забрали: и зерно, и все-все. Моего брата посадили в тюрьму, где он и погиб за свое же зерно. Мы сундуки прятали под амбаром, но все барахло забрали. Голые ходили. После войны одну картошку ели, а потом и она закончилась, тогда воду пили с яблоками.
Умрихина вздыхает.
– Сейчас так много забываю, что за жизнь! Пятый у меня ребенок умер, мальчик. Красивый был, наверное, его сглазили.
– Бабушка, расскажи, как ты с мужем познакомилась, — задает вместо меня вопрос внучка Люба.
– На своей улице замуж вышла, через дорогу. Старым женихам меня папа не хотел отдавать. «Доня, выбирай сама» — говорил, а сватались много. И в 17 лет за соседа пошла.
– Полюбили сильно?
– Чи любила, чи ума не было у меня. Сватались красивые ребята, а он не красавец, и я красивая была.
Дочки дружно машут головами, подтверждают, что очень красивая, а еще и стихи пишет, хоть ни одного класса не закончила.
– Вот про Марию: «Ночька темная, боюся, проводи меня, Маруся. Провожала, ручку жала. Пришла домой и плакать стала». Потом про внука Мишу: «Ох, чей это дом, зеленая крыша. Сидит Миша над окном, телеграмму пишет».
– А помните, племянник приехал, а она ему говорит: «Ох, дождь идет, с крыши вода льется. Пусть моему племянничку немного икнется», — смеется Раиса, — без всякой школы обошлась. Во время оккупации в деревне немцы жили. У нас на огороде были, маму заставляли хлеб печь.
– Слухай, я расскажу лучше, я лучше помню, — говорит старшая Маруся. — Мама только печку затопила, приходит немец, приносит дрова. По-русски не разговаривает, показывает, чтобы в печку бросали. На стол ставит яички, молоко, сахар и формочки. Маме показывает — замешивай. Потом приносит формочки. А пресное тесто, без дрожжей. А огонь в печи разгорелся большой. Заставляет ставить тесто в печь. Мама объясняет ему, что погорит все, жар огромный. Ну и погорело все. Он как стал бегать по хате, кричать. Погоревал и больше к нам ни разу не заходил. А мама хорошо пекла, неделю хлеб не черствел, не крошился, как сейчас продают. И пироги пекла, всех угощала. А у фашистов тут штаб был, рации в садах наших. В ветках они клубились. Мы с подругами бегали, играли, и ногой задели провода какие-то цветные: розовые, зелененькие. И оборвали провода, в траве не заметили. Пришли немцы с автоматом, требовали партизан показать. А какие партизаны, это же мы, дети. Им везде партизаны мерещились.
– А еще после войны корову у нас украли, но это уже соседи. Завидовали нам.
– А чему завидовать-то было? Муж в ссылке.
– Мы хорошо одевались, мама обшивала нас, красивые платья были, вязала, пряла, ткала даже, еда была, трудились ведь все с детства. А у соседей одна дочка и та абы во что одета. Мы потом рога нашли в степи от нашей коровы. А она всегда доилась.
– Мама всегда вырабатывала трудодни, а за них же только палочки ставили и все, за стахановский труд. А за палочки никто не захотел давать нормальную пенсию, 8 тысяч она получала, да и то по старости, а до 80 совсем не было пенсии, хоть всю жизнь проработала. А когда сто исполнилось, то маме уже надбавили и группу дали.
– И много долгожителям добавляют?
– 11 тысяч рублей мама получает. Это с инвалидностью. Соседи не верят, что столько начисляют. Соседи говорят, мол, вы миллион получили, а никуда не ходите, не тратите. Якобы такой закон, что столетним по миллиону давать. Может где-то дают, но точно не у нас.
– Вы все до сих пор в Донском живете?
– Все на одной улице, так и остались. И замуж тут повыходили.
Заходит пожилая соседка, Елизавета Алексеевна ее ругает, отпуская мою руку.
– Танька Ляхова, ты чего так редко заходишь? Давай обнимемся.
Соседка объясняет, что была на похоронах через два дома у Гавриловны, от чая отказывается, но жалуется, что авантюристов много развелось.
– Присылают письма, чтобы деньги перевести, а тогда мне еще больше по почте придет, аферисты, не верю я им, — возмущается Ляхова и быстро уходит, подозрительно поглядывая на мой фотоаппарат.
Умрихина говорит, что устала, просит отдохнуть, мы же идем в соседнюю смежную комнату пить чай с конфетами и клубничным вареньем. За столом женщины заговаривают о политике.
– Мы вот на выборы ходили недавно, когда губернатора Владимирова выбирали, голосовали за него, — с гордостью говорит внучка Люба.
– А я в церковь пошла и паспорт забыла, — смеется Галина, — уже вечером сын отвез на участок. У нас из развлечений — церковь, постоянно ходим по праздникам и воскресеньям. Правда, сначала наша церковь была староверской, но потом постепенно староверы в селе закончились: покрестились. После войны храм восстановили, хорошо, что не снесли. А вообще мы в Донском никогда икон не прятали, венчались. Не было у нас гонений на христианство при советской власти.
– Тетушки, берите хлеб, варенье, — подставляет сестрам сладости внучка.
– А еще телевизор смотрим, но мало: «Поле чудес» да последние известия. Там такое показывают, что не хочется смотреть ничего.
Сестры начинают поглядывать на часы, говоря, что пора по домам кормить птицу. Одна из них звонит правнучке с машиной, просит забрать всех и развести по домам, а меня — на автостанцию. На улице уже темно, почти нигде не горят фонари, и дорогу освещают лишь звезды и тусклый свет из окон домов. Правнучка опаздывает, объясняя, что делала салат с рыбой. Женщины спохватываются, что не показали фотографии, но все равно настаивают, что надо ехать домой — там же птица голодная. Молодая женщина по дороге жалуется на социальные службы: семья уже несколько лет просит инвалидное кресло, чтобы вывозить Елизавету Алексеевну на улицу.
– Она же во многом как ребенок: обижается, если конфета не понравилась, или колбаса невкусная. А летом просит вывести ее во двор, мы выводим, но с годами ходить ей все сложнее, — вздыхает девушка, — но главное, что она всех нас знает, всегда рада вниманию, ведь ее мир сократился до одной комнаты. Только когда давление поднимается, и ей тяжело, начинает вздыхать, что хочет к маме с папой, жалуется, что Бог про нее забыл. Но такое быстро проходит.
поддержать проект
Подпишитесь на «Русскую Планету» в Яндекс.Новостях

Яндекс.Новости